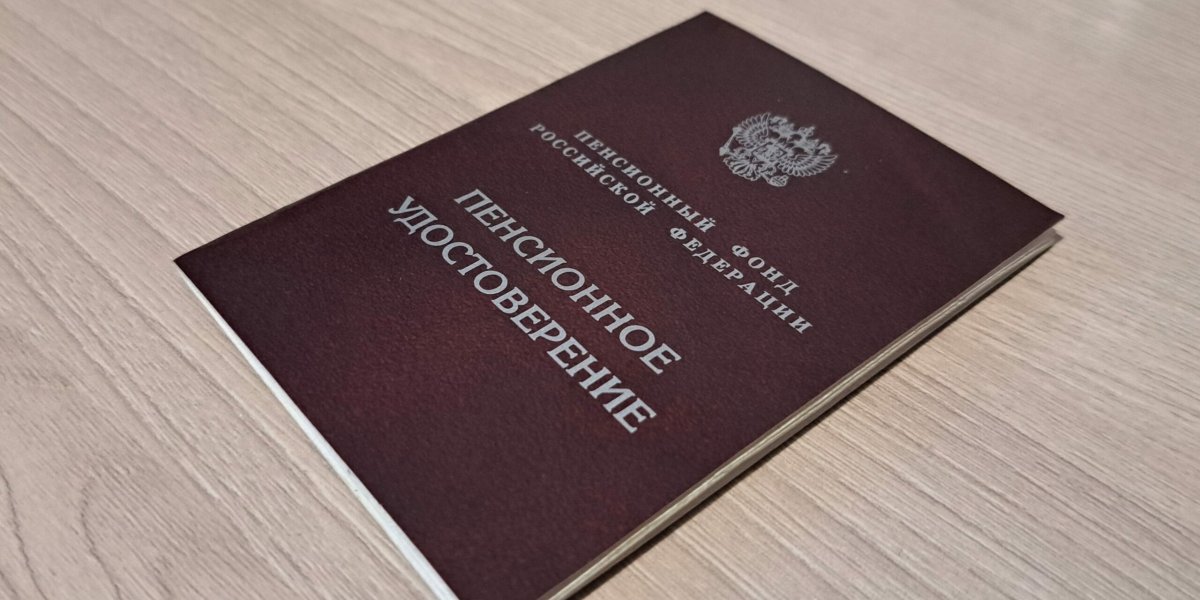Эльвира Набиуллина и её команда в Банке России давно перестали просто регулировать денежную политику — они теперь изобретают реальность через язык. Где обычные люди видят падение доходов, рост цен и вынужденную экономию на еде, ЦБ видит… «высокую сберегательную активность».
Да, вы не ослышались. Когда семья вместо куриной грудки берёт макароны, а вместо лекарств — надежду, это, по версии Центробанка, не признак бедности, а добровольное и рациональное участие в формировании макрофинансовой устойчивости.
Отказ от отпуска, ремонтов, образования, даже от базовых лекарств — всё это теперь «стратегическое сбережение». Главное — не называть вещи своими именами. Ведь «бедность» звучит ненаучно, а «структурная перекалибровка потребительского бюджета» — уже диссертация.
Но реальность упрямо напоминает о себе цифрами — и они всё громче противоречат официальной риторике.
Свободные деньги исчезают — быстрее, чем инфляция
Согласно исследованию аналитического холдинга «Ромир», доля свободных денег в бюджете российской семьи по итогам августа 2024 года рухнула до 14,8%. Для сравнения:
— в июле 2025-го она составляла 19,8%;
— в августе 2024 года — 20,4%;
— а ещё годом ранее, в августе 2023-го, у семей в среднем оставалось почти 27% доходов на непредвиденные или отложенные цели.
Что такое «свободные деньги»? Это те средства, которые остаются после всех обязательных расходов: продукты, товары повседневного спроса, ЖКХ, связь, транспорт, лекарства. То есть — деньги на отдых, образование, крупные покупки, ремонт, развлечения, инвестиции в будущее. Их почти не осталось.
Индекс свободных денег рассчитывается как разница между совокупными доходами домохозяйства (включая все регулярные и разовые поступления всех членов семьи) и затратами на необходимые товары и услуги. Расчёты основаны на данных потребления 40 000 россиян из Единой панели «Ромир» и сопоставляются со статистикой Росстата.
И вот результат: за два года свободные деньги сократились почти вдвое. Это не «адаптация». Это сжатие жизненного пространства.
А ЦБ говорит: «Активно сберегают!»
На этом фоне заявления ЦБ о «высокой сберегательной активности населения» звучат как издевательство. Потому что на самом деле люди не копят — они выживают.
Депозиты в банках? Реальная доходность по ним — отрицательная: при ключевой ставке 16% и инфляции 7,4% (апрель 2025 г.) чистая ставка после налогов и инфляции всё равно ниже нуля. Да и класть некуда: у подавляющего числа населения свободных денег нет.
Так что «сберегательная активность» — это просто отсутствие возможности тратить. Но в отчётах ЦБ это выглядит как добровольный выбор рационального потребителя.
Платёжеспособность падает — даже по ощущениям
Подтверждение приходит от социологов. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец заявил радиостанции «Говорит Москва», что реальная платежеспособность россиян начала снижаться. И ключевой здесь не номинал зарплаты, а самооценка: «хватает ли денег?»
«Пик материального благополучия пришёлся на конец 2024 — начало 2025 года, когда рост зарплат опережал инфляцию. Сейчас мы его прошли. У нас существенный рост платежей по ЖКХ, быстрый рост цен на разные товары, включая лекарства — всё это съедает доходы», — пояснил эксперт.
Цифры подтверждают:
— Тарифы ЖКХ в 2025 году выросли на 12,3%;
— Цены на лекарства — на 15,1% (в отдельных регионах — до 20%);
— Реальные располагаемые доходы в 2024 году выросли всего на 1,2%, а в I квартале 2025-го — снизились на 0,7%.
А опрос «Выберу.ру» показал: 68% россиян работают больше, чем два года назад, но их доходы остались на прежнем уровне. То есть нагрузка растёт, а компенсации — нет.
Экономика «растёт», но однобоко
При этом ВВП в 2024 году вырос на 3,6% — но этот рост обеспечили военно-промышленный комплекс (+18%) и добыча полезных ископаемых (+4,2%). Обрабатывающая промышленность, ориентированная на внутренний рынок, еле держится на плаву (+1,1%). Внутренний спрос падает, потому что люди просто не могут тратить.
Но ЦБ не видит проблемы. Ведь если население «активно сберегает», значит, всё в порядке. Даже если эти «сбережения» — это пустой холодильник и неоплаченный рецепт.
Вывод: новояз как защита от реальности
«Отрицательный рост», «плановое торможение», «структурная адаптация», «высокая сберегательная активность» — всё это не термины. Это щиты, за которыми прячется неспособность (или нежелание) признать: денежно-кредитная политика, направленная исключительно на подавление инфляции, раздавила внутренний спрос и обеднила население.
Пока ЦБ изобретает слова, чтобы не говорить «бедность», «падение уровня жизни» и «кризис потребления», реальные семьи всё чаще задаются другим вопросом:
«Хватит ли денег до зарплаты?»
И в этом вопросе — вся правда. А «высокая сберегательная активность» — лишь её бюрократическая маскировка.
С каждым днем граждане России все острее осознают: нужно коренное изменение экономической политики страны, о чем постоянно говорят экономисты-патриоты: Делягин, Глазьев, Хазин. Но нынешняя политика формируется блоком системных либералов, которые действуют по книжкам издательства «Фонда Сороса», которые на самом Западе давно уже сданы в макулатуру.